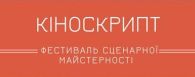Нещодавно побачила світ книжка «Довженко без гриму» (Видавничий дім «Комора», 2014), за фінансової підтримки МФ «Відродження». Упорядники — літературознавець Віра Агеєва та історик кіно Сергій Тримбач.
«День» звернувся до пана Тримбача з проханням прокоментувати видання. А також подаємо окремі матеріали з книжки.
— Для мене це вже третя велика робота, присвячена Олександрові Довженку, — розказав С. ТРИМБАЧ. — Першою була монографія «Олександр Довженко. Загибель богів» (2007), друга — участь у підготовці до видання Довженкових «Щоденникових записів» (2013), разом з групою московських архівістів та істориків. Це третя книжка. Її ініціювала відомий літературознавець Віра Агеєва.
Кажуть, книжка добре розходиться в крамницях. Вона й справді, мені видається, доволі читабельна. Один із розділів віддано любовній епістолярії великого митця — листи першій дружині Варварі Криловій, актрисі Олені Черновій, далі — дружині Юлії Солнцевій, і насамкінець — українській поетесі Валентині Ткаченко (це початок 1950-х, коли Довженко, перебуваючи в Новій Каховці, захопився молодою жінкою).
Наступний розділ — «Довженко та вожді (Сталін — Хрущов — Берія)». Все це ніби й відомо, одначе відкриваються нові подробиці... До прикладу те, як Сталін фактично продюсував виробництво Довженкового фільму «Щорс». Тут же подано спогади людей, що добре знали Довженка, — акторів Петра Масохи та Михайла Сидоркіна (його щоденник), кінорежисерів Віктора Іванова, Василя Левіна, Олексія Мішуріна).
В окремому розділі зібрано (уперше) всі варіанти автобіографічних текстів Довженка — без жодних купюр. Цікаво співставити, цікаво побачити, як розвиваються деякі доленосні сюжети та мотиви...
У двох великих статтях В. Агеєвої представлено погляд автора на магістральні сюжети долі митця. Усі тексти прокоментовано і збагачено примітками.
Увазі читачів пропоную кілька листів: до російської актриси Олени Чернової (знялася у невеликій ролі в фільмі «Сумка дипкур’єра»), листи написано 1928 року, коли режисер працював над фільмом «Арсенал» та Валентини Ткаченко (1920—1970). Крім того, фрагменти спогадів Юлії Солнцевої, цікаві тим, що відтворюють враження від поїздки в Західну Україну одразу після входження туди Червоної армії. Й насамкінець моя післямова до книжки.

ІЗ ЛИСТІВ ОЛЕНІ ЧЕРНОВІЙ
Письмо пятое
Алло, Олеся!
Семь с половиной часов вечера. Сижу я в театре на кинематографическом диспуте, где вся так называемся киевская общественность. На большой сцене сидит президиум. Его члены нагнулись над красным столом и, нахмурившись, глубокомысленно чертят крестики и другие безграмотне фигурки, въевшиеся в их уставший мозг. Словом, все как полагается. Публика кашляет и подавляет зевоту беспрерывным ерзаньем на бесплатных стульях.
За кафедрой оратор. Он очень маленького роста, и потому его совершенно не видно из-за кафедры. Поэтому мне кажется, что я слушаю хрипенье дешевенького громкоговорителя на тему о пользе кино для домашних животных.
Мне не скучно, Олеся. Я вообразил, что Вы сидите тихонько рядом со мной. Я разговариваю с Вами, и нам очень смешно. А, милый Вы мой мальчик, мне кажется, что я ощущаю на щеке прикосновение Ваших волос, Леся моя! Что это, Вы не видите? Я расскажу Вам.
Восьмой оратор... Он ничего не говорит. Он встал на голову и балансирует в воздухе ногами, вызывая радостный смех у публики. «Просим, просим! Болтайте еще». Ушел.
Девятый оратор вышел с тупым ножом. Разрезав животы публике, он старательно, методично выматывает кишки и жилы, укладывая все это вокруг себя правильными кольцами.
Довольно. Уйдем отсюда, друг мой. Ах, Олеся, Олеся, скучно мне здесь живется. Но я же обещал обо всем рассказать. Каким же был первый оратор? Он был в стихаре и в течение десяти минут кадил советским ладаном. Густым басом он пел привычное:
«Пролетарии всех стран... покупай товар в нашем ларьке, он дешевле и лучше, чем везде». Почтим же память его...
Второй оратор в течение пятнадцати минут вытягивал изо рта длинную жеваную веревку и обматывал ею зал.
Третий оратор упражнялся в произношении нечленораздельных звуков, нарочно показывая публике ее происхождение от вымерших чудовищных человекоподобных обезьян.
Четвертый оратор показал блестящее умение владеть руками на трибуне. С невероятной точностью он чертил в воздухе правильные круги, а начертивши, тыкал указательным пальцем прямо в центр, издавал отрывистые звуки.
Пятый оратор подтвердил свое откровенное непонимание кино тем, что присоединился к мнению предыдущего оратора, согласно директивам какого-то органа. И с тем сошел со сцены.
Шестой оратор просто сократил жизнь слушателям на десять с половиной минут.
Седьмой помог ему еще на десять минут.
Еле дошел домой и нашел письмо от Юры. Пишет, что Вы не забыли — «Ночь была темная, а кобыла черная. Едешь, едешь, да и пощупаешь, тут ли она». Мне стало приятно, приятно, а потом я опять загрустил.
Думаю, Леля, ведь чужой Вы, далекий и мало известный мне человек. Что же влечет меня к Вам? Почему Вы заняли самое близкое место у меня? Почему через сотни снежных верст так серьезно, упорно, подолгу гляжу я на Север. Север. Север. Русская земля. Спокойной ночи, маленькая.
Письмо семнадцатое
Приехал сегодня в Одессу. На шесть дней. Потом снова возвращаюсь в Киев. Перестраиваю группу и планы. Новый номер в гостинице.
Мой маленький, суровый друг. Вы знаете, сколько комнат я переменил за последние годы? Страшно похожие, Олеся, родная. И кажусь себе я в них одиноким и холодным. А не люблю я холода больше всего на свете. Эта комната ужасная. Не прошло еще двух часов, как я в нее вселился. Почти два часа прислушиваюсь к каким-то странным и удивительно неприятным звукам. Откуда доносятся они? Иногда они затихают на несколько минут, потом снова повторяются. Этим они обнаруживают свое, так сказать, животное происхождение. Несомненно, это не голоса обитателей соседних номеров. Обитатели, точнее обитательницы, ругают неудачные па своей подруги и посмеиваются балетными голосами. По-видимому, их там много. Они успели уже поговорить о моем темно-коричневом загаре и неприятном выражении лица. Видели меня в коридоре. Возможно, они скоро уйдут или уснут. А звуки в комнате все звучат. Больше всего они напоминают дыхание невидимого больного. Это паровые трубы. Слава богу, это только паровые трубы. В жизни не слышал таких труб. Я привыкну к ним, Олеся, к чему только не привыкаешь.
Сегодня первый вечер, когда я не хотел бы Вас видеть, Олеся. Я устал, и у меня очень болит голова. Устал с дороги или от обстановки и работы последних дней. Грустно на душе и одиноко. И потому, что устал и одинок, испытываю тихую радость, думая о Вас из далекого далека. Где Вы, моя маленькая, беспокойная девушка? Я целую Вашу милую головку и говорю: «Олеся, моя далекая грустная музыка, мне кажется, я сегодня начал стареть». Может быть, потому что сейчас в одиночестве я особенно чувствую или скорее осознаю, что я очень много знаю. И это нехорошо.
Я заснял в Киеве все, что надо было снять со снегом. Снежные поля, помните, милая, — «Гей вы кони наши, товарищи боевые». Это прошло уже. Остался холодный загар на лице и подчеркнутая седина на висках.
Ах, малышка моя. Улыбайтесь, улыбайтесь. Любите жизнь, даже если она Вас не любит. Полюбит и она Вас. Сильных нельзя не любить. А я, Олеся, солнышко? А музыка? Если б я умел играть, я каждый день молился бы земле, чтобы она отказалась принять меня двести лет. Мне кажется все время, что когда я буду слушать Вашу, Олеся, музыку, я буду счастливейшим человеком. Хотя музыка всегда настраивает меня на грустный лад. Олеся, сколько в ней человечности! Олеся, ни в одном искусстве нет ничего подобного. Олесенька, если у Вас холодно, целую Ваши милые, чудные руки и согреваю их своим дыханием.
Простите, родная, что я кислый и нехороший сегодня. Несомненно, завтра с утра в меня снова вселится мой беспокойно-упорный бес, и я буду снова похож на хороший авто с громким гудком. Как всегда.
Олеся, родная, что делать, я пропал. В соседней комнате справа закричал ребенок. Кричит! Олеся! Кричит! Я хочу сказать — плачет. В гостинице ребенок! Бью пари — грудной. Тише, перестает. Нет, снова начал. Прощайте, Олеся. Я пропал. Утих. Как жаль. А мне казалось почему-то, что я ужасно люблю маленьких детей. Впрочем, почему же мне не любить их? Вот уже он совсем замолк. Я перееду завтра в другую гостиницу, и он может быть совершенно спокоен. По-видимому, он мальчик.
Олеся, голубчик мой хороший, пишите мне скорее. Много, много в Киев. Спокойной ночи.
Ваш нелепый САШКО.
Нет, Олеся, я был неправ в начале письма. Мне безумно хочется Вас видеть. Мне кажется, что я чувствую Ваше присутствие. Вот, кажется, оглянусь и увижу Вас, родную, близко-близко. Я не знаю многих слов, но мне хочется кричать Вам об этом. Нет, шептать: «Олеся, вы здесь, родная». Обнимаю Вас, обнимаю. Близко, близко. Какие у Вас удивительные глаза. Серьезные. Какие руки, Олеся, сегодня я снова засну с Вашим дорогим именем на губах. Олеся, Олеся, девочка моя!
САШКО.
ДО В. Д. ТКАЧЕНКО 18.Х.52
Не обижайтесь, Валентино, що я порушив своє слово і знов пишу до Вас. Їй-право, й Ви могли б робить те саме, зоставшись на Низу одні, і ні з ким говорити.
Добрий вечір. Хочу дозволити собі приємність ще раз привітати Вас. У нас так тепло і так гарно, така м’якість і ласка прозора в повітрі, багатоурочисті фарби неба, а ріка, до того ж, синя од ранку й до вечора, що ніде вже на світі немає такої...
Як же не вітати Вас, коли таке навколо. Так вельми жаль, що Вас нема, хоч і ясно, що не можна було Вам кидати надовго синочка і матір.
Чи добре Вас приймає Київ? Багато написали поезій? Чи не пригнобив прозору Вашу ясну лірику суворий критик Ваш? Не потурайте моєму смакові, і навіть більше Вам скажу: коли я часом втрачав такт, а се, напевно, так і було, і коли недостойно свого стану Вас критикував і поучав, не жаліючи й позабувши, як тяжко переноситься критика творчості в молодому віці, склоняю голову перед Вами — простіть.

Олександр Довженко з дружиною Юлією Солнцевою (саме вона заповіла розсекретити унікальні архіви й щоденники режисера лише в 2009 році — через двадцять років після власної смерті)
Вже тільки після Вашого одплиття угору отут на самоті збагнув, що сам же я усе життя, необачний і байдужий до найвищих похвал, був тяжко ранимий всяким грубим критичним втручанням, від чого навіть і згорів передчасно. Я був таким ранимий і беззахисний, що з мене хтось ніби здирав всю шкуру, і я носив її в руках, як Мікель-Анджело в автопортреті на картині Страшного суду, простіть за високе порівнянне.
Єдине чим я зараз можу втішити себе і Вас, то се шанобливо запевнити: одне лише бажання принести Вам бодай краплиночку творчої користі керувало мною... Знов гуси летять, знову-чую клич у небі. Щасливо долетіти, гусоньки. Прилітайте... Як багато дивного навколо, пробачте... З другого боку, що ж я сам зробив у Вашому мистецтві? Одного вірша. Коли ще Вас на світі не було і поезія коли ще жила без Вашої милої і доброї особи, написав я був з приводу наглої кончини мого друга лише одного, прекрасного, правда, по тих часах, вірша, але й того, як потім оказалось, перехопив у мене Лермонтов...
Коли я матиму приємність дізнатися якось, що не спричинився ні до яких Ваших творчих скорбот... знов, чую, перелітають... і що бодай в найменшому чомусь я став Вам у пригоді, буду так радіти, як би радів брату своєму, чи сестрі, чи дитині. Я бажаю Вам великих творчих досягнень і піднесень душевних високих, шаную Ваш чистий зворушливий талант, Вашу молодість.
Ви більше принесли мені добра, ніж я Вам. І споминаючи Вашу зворушливу увагу до мене, я сповнений найглибшої пошани до Вас. Так вже воно й лишиться.
Вірша до моєї річки писати не треба. Прийміть того листа як певну форму звертання до Вас як до митця. Пишіть своє щось молодеє. Бо недостойно справді переносити тягар років на чужую юність. Поливайте свої квіти. Може, й не поспішайте копати надто глибоко. Нехай продовжується Ваш ясний день. Глибини й хмари самі прийдуть. Якщо судилося, ще встигнемо поплавати в них. Не треба поспішати. Хай голос Ваш остається чистим і співочим, а серце добрим.
Згадуйте часом про мене. Не зважайте на старомодну громохкість моїх листів. Хай ні вони, ніщо Вас не обтяжує. Адже пишу я на основі іншої сили речей, що мене створила.
Я старший од Вас на цілу епоху. В той день, коли, народившись на світ, Ви вперше простягли руки до матері свої маленькі ручки, я захищав уже в полі нашу Велику Радянську Вітчизну зі зброєю з руках. Хто міг тоді думать, що ті ручки триматимуть колись мого листа, написаного з найглибшою пошаною до них.
О. П.
Р.S. У мене таке до Вас прохання: якщо Вам ласка, пришліть мені нову адресу Малишка і Смолича, а також адресу видавництва «Радянський письменник». Крім того, подзвоніть сестрі Поліні Петрівні. Вона мені не відповідає, і я турбуюсь.
Я в Новій Каховці, в її місті. Як син народу, я хочу належати їй і створити про неї народну епопею. «Благослови мої, Боже, нетвердії руки».
Щасти Вам доле.
Поправка: В картині «Страшний суд» шкіру Мікель-Анджело тримає в руках не він сам, а св. Бартоломей.
«Мне очень трудно было
не показать тяжелого времени Александра Петровича...»
Ю. И. Солнцева. Воспоминания. Разрозненные главы. Варианты. Окончание.
Машинопись с правкой и вставками автора, машинопись.
1970 — нач. 1980-х
Украинская студия до 1938 г. снимала картины только на русском языке. Почему? Это был тот возмутительный случай, что мне, русскому человеку, не хотелоcь бы об этом даже думать. Ни в одной республике, кроме Украинской, этого не делалось, и когда говорят о буржуазном национализме на Украине, я думаю, что виноваты отчаcти были и наши русские руководители.
В 1938 г. Александр Петрович поставил вопрос перед Хрущевым, когда тот был первым секретарем на Украине, о том, чтобы делать картины на украинском языке. Хрущев разрешил и на Киевской студии стали делать фильмы на своем языке.
Львов был освобожден. Н. С. Хрущев предложил нам, т. е. Александру Петровичу вместе с группой выехать на автобусах во Львов и поснимать там. Это было интересно для истории — воссоединение Украины. Нам было предложено надеть военные костюмы, что мы я сделали... С нами было несколько писателей. Вместе с Виктором Борисовичем Шкловским [48] и другими мы отправились в Западную Украину. Поездка эта была очень интересной, для нас неожиданной и мы где-то все волновались. К вечеру мы въехали во Львов. В гостинице «Жорж» мест пока не было и мы решили войти и пообедать в ресторане. Во Львове в это время поселилась половина бежавшей Варшавы. Варшава бежала от немецкого наступления, кстати говоря, во Львове была и Ванда Василевская [49].
Мы вошли в ресторан потому, что другого места пообедать не было. Нас поразила невероятно богато одетая публика, грохочущая музыка. Все столы были заняты. Мы — я, Довженко, Шкловский и еще двое наших товарищей, также одетые в военное, — остановились в дверях гостиницы. Все взоры обернулись на нас. Наша одежда никак не сливалась с общим видом ресторана. Поэтому весь ресторан обернулся в нашу сторону. Музыка неожиданно прекратилась. Мы почувствовали себя в тяжелом положении, но есть очень хотелось, и мы пошли между столиков, за которыми сидели люди, глядевшие на нас угнетающим взглядом.
Найдя один из свободных столиков, мы сели. К нам подошел лакей. Шкловский обратился к Александру Петровичу: «Сашко, очевидно, мы не сюда попади, нам надо выбраться немедленно». Взяв меню, мы стали смотреть, сделав вид, что для нас ничего подходящего нет, — встали и ушли. Зал сидел в абсолютной тишине. Все следили за нашими движениями, и от этого нам было еще тяжелее. Мы вернулись в гостиницу и поселились в номерах, которые нам дали. В тот день по гостинице «Жорж» стреляли. Пуля вошла в окно рядом с комнатой редактора журнала «Коммунист», но благополучно застряла где-то в оконной раме. Что же делать завтра? И как нам нужно держать себя?
Рано утром на другой день мы вышли на улицу. Были открыты все магазины с очень хорошими, для нас невиданными, вещами. И все военные части, которые уже вошли в город (кстати, многие сюда приехали с женами), отправились в магазины. Несколько дней позже я была потрясена происшедшим. На маленькой улице Львова какая-то толпа варшавян и жителей Львова следила за нашими военными с женами. Жены одели ночные рубашки, думая, что это платья с кружевами, и с гордостью носили их. Мы прошли, опустив головы, подойти и сказать им — не могли. Публика гоготала, шла за военными с их женами по другую сторону.
Очень жалко, что мы с нашими добрыми намерениями и зачастую отсутствием культуры попадали в трудное положение и портили все, что создавали наша пропаганда и наш высокий духовный мир советской страны.
Мы прожили несколько дней во Львове и начали снимать все, что встречалось нам интересного и неожиданного. С нами работал оператор Ю. Екельчик, который никак не мог приноровиться к съемке документальных материалов и поэтому чувствовал себя плохо. Он нигде и никогда не успевал. Он был прекрасным оператором художественного фильма. Что ж делать?
Мы были у коменданта города Львова, он пригласил нас на ужин и вынимал из подвалов (в которых хранили местные богачи и которые ушли после прихода нашей армии далеко на запад) разные великолепные старые вина. Настроение наше начало подниматься, мы сняли большое количество материала во Львове, останавливались и в других местах, которые были нам интересны.
По дорогам на Львов на полях стояло много католических крестов, но когда-то вся эта земля принадлежала украинцам.
Мы решили поехать в горы на реку Черемош, в село Жабье. В горном селе мы остановились в доме, как нам показалось, богатого человека. Мы были приняты вежливо, но когда наступила ночь и, по существу, мы, советские граждане, оставались вчетвером в горном селе, я начала прислушиваться к разным шорохам, потому что мы знали, что часть бандеровцев ушла в подполье и находится в этих горах.
Мы с Александром Петровичем поместились на втором этаже небольшого коттеджа. Мы стали осматривать комнату, в которой находились, и чуть-чуть приоткрыли занавеску. За занавеской мы увидели офицерский костюм. Нас это удивило. Очевидно, во время нашего приезда люди куда-то ушли. Мы с беспокойством провели ночь, а на утро поехали на реку Черемош, по которой сплавляли лес с горных вершин Карпат. Это очень красивая река, и позднее я видела и даже снимала в своей картине «Буковина — земля украинская» сплав дерева и невероятное мастерство гуцулов, которые шестами поправляли связанные бревна и перескакивали через пороги бурной реки Черемош. Для нас эта поездка была очень интересной, и впоследствии Александр Петрович сделал картину «Освобождение», очень своеобразную по своей форме, где дикторский текст был в абсолютном смысле авторским — впервые в кинематографе. Автор высказывал свою точку зрения и делал замечания по поводу случившегося в кадре, если его что-либо не устраивало. Это в свое время произвело впечатление, и впоследствии во многих картинах режиссеры пользовались этими же приемами. (...)
В это же время я сделала фильм «Буковина — земля украинская». Я подробно тогда увидела Западную Украину, была в гуцульских селах, видела прекрасные гуцульские танцы парней в пестрых шляпах, с зеркальцами на шее. Все это меня удивляло, потому что этот национальный наряд сохранился именно здесь, в Западной Украине. Мы про свои русские давно забыли, а украинские были тогда в моде. Украинские рубашки боялись носить, хотя я всегда заказывала рубашки для Александра Петровича в мастерской Софийского собора, там делали их для выставок и музеев, и они очень нравились ему (...)
Наше появление во Львове во многом было, по-моему, не таким, каким оно могло бы быть. Отсутствие культуры в большинстве у наших товарищей, которые приехали и заняли посты в этом очень красивом городе с костелом, с чистейшим асфальтом, с богатыми магазинами, сказывалась всюду. Мне особенно бросилось одно мое посещение Львова, когда я заметила, что в городе нет мух. Я обратила внимание и позднее, снимая картину, когда увидела столовую и ресторан, полные полчищ мух и грязи, которых, как это неприятно, очевидно привезли мы.
Отсутствие этой культуры очень много портило нам не только во Львове, но и в других городах. Неумение разговаривать и понимать людей всегда возбуждало неудовольствие, раздражение и большей частью ненависть. А мы как-то долго не можем понять этого, и даже сейчас наши товарищи, которые ездят за границу, не держатся на том уровне, на котором обязаны. Я помню нашего советника Посольства в Берлине, который шел с нами по улице и говорил так: «Александр Петрович, обратите внимание, вот идут русские. Вы заметили, что это именно они, хотя я с ними и не знаком. Нечесанные головы, невычищенные сапоги. Сколько мы не говорим, что дорога к сердцу, к сожалению, не идет через эту некультурность и грязь, что это останавливает самые хорошие чувства у наших противников... Так до конца мы и не поняли, что так жить нельзя».
К картине «Буковина — земля украинская» Александр Петрович написал текст. Его тексты всегда отличались необычностью — и «Освобождение», и «Битва за нашу Украину» в этом смысле имели большой успех.
Мне пришлось снимать и в Карпатах, и в дальних и в бедных хатах, и селах гуцулов, где, кроме деревянных досок, ничего не было. Не было одеял, не было подушек, не говоря уже о простынях и других подробностях нашего быта.
Гуцулы пасли скот, обычно это были овцы, и оглашали горы необычными звуками трембиты. Изобразительно все это было очень интересно, но смысл всегда был очень тяжелым — нищета и бедность в последней своей стадии.

ПІСЛЯМОВА. «МИТЬ, ТИ ПРЕКРАСНА!»
У Довженкових Щоденникових записах, віднедавна оприлюднених у повній версії (все, що збереглося, а збереглося далеко не все) жодного разу не згадано Гете. Невже «Фауст» не належав до його, Довженка, улюблених текстів? Зате «Майстер корабля» Юрія Яновського, де є Довженковий образ, має епіграф якраз із Гете:
Ні! все добре на землі:
Чорна дівка, білий хліб!
Завтра в інший край мандрівка:
Чорний хліб і біла дівка...
Так-так, була мандрівка
«в інший край».
Нагадаю, у фіналі Мефістофель скликає лемурів, злих духів, щоб приготувати могилу для Фауста. Він упевнений, що душа Фауста — вже його... Сліпий Фауст чує дзвін лопат, йому видається, що це народ займається будівництвом греблі. Заповітна мета вже близько. Він радіє, проте, незрячий, не здогадується, що це не будівники — навколо нього метушаться злі духи, риючи йому могилу. А він продовжує віддавати накази будівельникам.
У його уяві виникає така грандіозна картина багатої, родючої й процвітаючої країни, де живе «народ вільний на землі вільній», що він промовляє сокровенні слова про те, що хотів би зупинити мить. Фатальні слова сказано. Фауст падає на руки лемурів і помирає. Мефістофель уже передбачає мить, коли, згідно з домовленістю, заволодіє його душею. Однак з’являються небесні сили, і починається боротьба злих духів із янголами. Мефістофель проклинає янголів. Та біси не витримали боротьби, вони тікають, і янголи відносять душу Фауста на небеса. Душа Фауста порятована! Дивовижно схоже на фінал Довженкового життя. Як відомо, останні роки, від 1951-го, він їздить на будівництво Каховської ГЕС. І розпач, і трагічне відчуття близького Апокаліпсису, все те, що супроводжувало душу митця від початку війни, змінюються на відчуття протилежні. Та ще й романтичні почуття до Валентини Крилової додалися... Узагалі «все, що було зі мною в Каховці, усе, що бачив, чув і все, що робив, що думав, всі зустрічі з людьми, все, що познав і пережив, гуляючи в просторах часу, минулого, сучасного і майбутнього — все було щастям моїм. Я був щасливим, людяним і духовно багатим. І людей любив як ніколи» (Щоденникові записи. 25 листопада 1952 року). Словом, «зупинися, мить, ти — прекрасна!»
І зринають «ліві» мріяння про можливість перемоги комунізму, замало не ренесансної гармонії людського життя. І вже бачиться перемога добра над злом, коли возсія краса людська над світом.
Він осліп на старість, Довженко, — як той Фауст. Одначе ж у підсумку душа його була порятована, вона вознеслась на вищі щаблі духу — і відлетіла. Недарма на його могилі на Новодівичому цвинтарі у Москві можна прочитати: «УМЕР В ВОСКРЕСЕНЬЕ». Він воскресне, а власне — воскресає щораз при зустрічі з ним — екранним, літературним, малярським. Народ все ще покріпачений, і який там комунізм нині в країні, де панує цинічний і злодійкуватий олігархат?! Одначе ж Довженко там, у Новій Каховці, бачив народ, що творить завтрашній день, творить красиво і натхненно... Перебільшував, звісно, але ж тільки так, тільки повіривши у народ свій можна допомогти йому сягнути вершин, не забуваючи про низини.
А Мефістофель (Сталін з попихачами) програв Довженкові-Фаусту. Сліпому, сивому, якому видавалося, на фінал життя, що сам він профукав величезний талант свій, профукав, видмухуючи в труби оспівування режиму великого вождя. Та ба, все вийшло навпаки — у програній партії знайшлися ходи до перемоги.
От тільки що ж відбувалося насправді, чим були ті звуки, які чув Довженко під час будови греблі? То будівничі були, як думав Довженко, чи злі духи, які рили могилу — і Довженкові, й Україні, а може, й цілому світові?
Дивлячись на сьогоднішній світ, радше обереш гірший, песимістичніший варіант.